КОЛОНКА АВТОРА
Дорогие читатели!
Июльское солнце заливает улицы своим ярким светом, а мир искусства продолжает удивлять нас новыми гранями и открытиями. В этом выпуске мы погрузимся в два совершенно разных, но одинаково захватывающих мира: мир современного искусства и мир реставрации.
Художник и бренд: новая эра сотрудничества
Искусство и бизнес сегодня создают удивительные союзы. От классических меценатских отношений мы перешли к современным коллаборациям, где бренды и художники становятся равноправными партнёрами.
Магия реставрации: искусство сохранения
Реставраторы — это современные алхимики искусства. Их работа требует не только художественного видения, но и глубоких научных знаний, терпения и внимательности.
В этом выпуске мы постарались показать две стороны одной медали — создание и сохранение искусства. Обе эти сферы требуют таланта, преданности делу и постоянного развития.
Приглашаем читателей присоединиться к нашему путешествию в мир искусства. Следите за новыми материалами и открытиями в следующих выпусках.
Июльское солнце заливает улицы своим ярким светом, а мир искусства продолжает удивлять нас новыми гранями и открытиями. В этом выпуске мы погрузимся в два совершенно разных, но одинаково захватывающих мира: мир современного искусства и мир реставрации.
Художник и бренд: новая эра сотрудничества
Искусство и бизнес сегодня создают удивительные союзы. От классических меценатских отношений мы перешли к современным коллаборациям, где бренды и художники становятся равноправными партнёрами.
Магия реставрации: искусство сохранения
Реставраторы — это современные алхимики искусства. Их работа требует не только художественного видения, но и глубоких научных знаний, терпения и внимательности.
В этом выпуске мы постарались показать две стороны одной медали — создание и сохранение искусства. Обе эти сферы требуют таланта, преданности делу и постоянного развития.
Приглашаем читателей присоединиться к нашему путешествию в мир искусства. Следите за новыми материалами и открытиями в следующих выпусках.
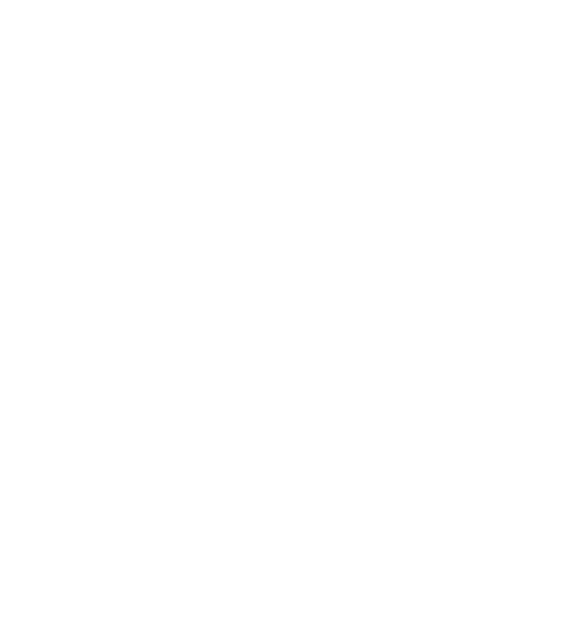
С уважением,
Ваша редакция КОРОНАLIVE
СОДЕРЖАНИЕ
начало статьи
ХУДОЖНИК И БРЕНД: ОТ МЕЦЕНАТСТВА К КОЛЛАБОРАЦИЯМ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
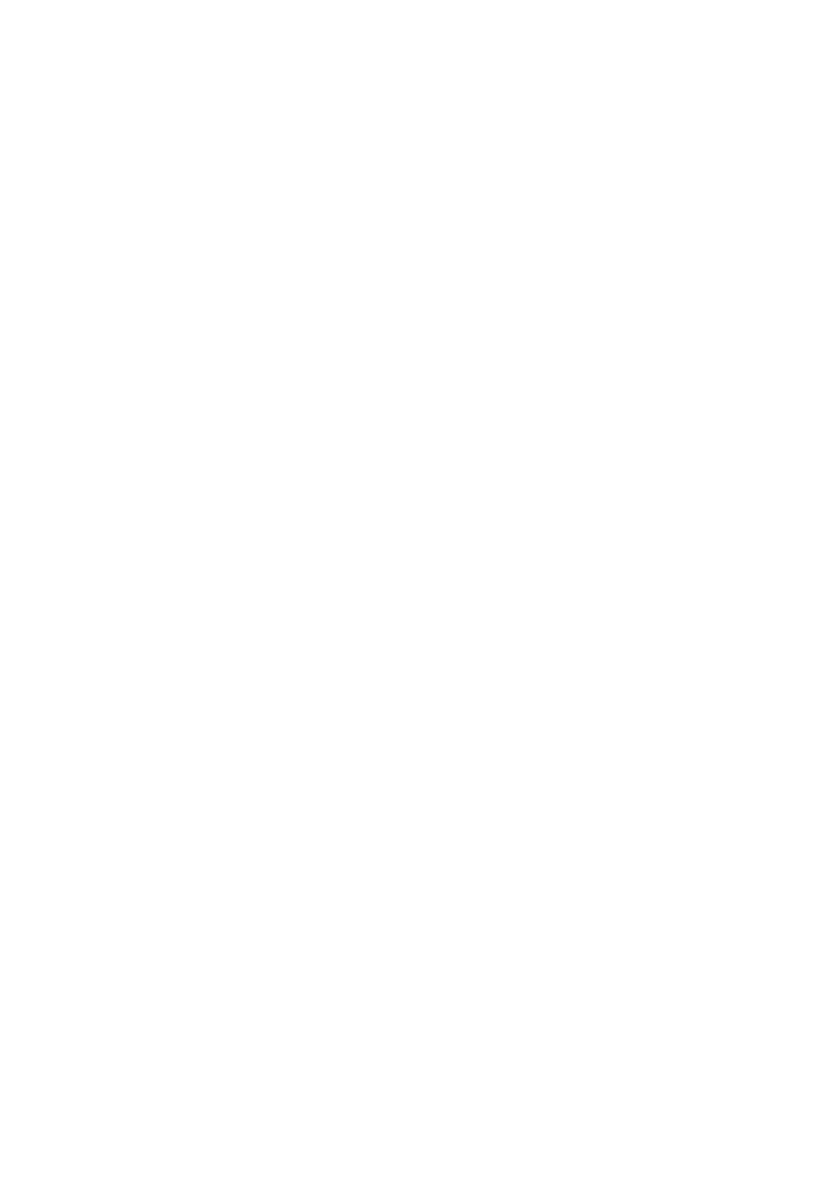
Hajime Sorayam для Dior, показ в Токио
Источник: Harper`s Bazaar
Источник: Harper`s Bazaar
Сотрудничество художников с коммерческими брендами имеет глубокие исторические корни, восходящие к традиции меценатства. В эпоху Возрождения мастера, такие как Леонардо да Винчи и Микеланджело, создавали произведения искусства по заказу церкви, аристократии и купцов. Это являлось одной из первых форм спонсорства. Однако работы создавались строго в рамках заданного сюжета, а имя художника оставалось вторичным по отношению к заказчику.
Ситуация начала меняться в XIX веке с развитием индустриального производства и рекламы. В 1896 году Анри Тулуз-Лотрек создал серию плакатов для Мулен Руж, которые вышли за рамки коммерческого инструмента, став произведениями искусства.
В XX веке авангардисты, особенно представители поп-арта, радикально переосмыслили границу между искусством и коммерцией. Энди Уорхол (Andy Warhol), используя язык массовой культуры, возвел в художественный культ знаковые бренды, такие как Campbell’s Soup и Coca-Cola, превращая потребительские товары в искусство. Его шелкографии фиксировали механистичность потребления и предвосхищали дальнейший симбиоз искусства и маркетинга.
В 1980–1990-е годы бренды осознали, что сотрудничество с художниками усиливает их визуальную идентичность и создает культурную ценность. В этот период появляются первые крупные коллаборации:
Ситуация начала меняться в XIX веке с развитием индустриального производства и рекламы. В 1896 году Анри Тулуз-Лотрек создал серию плакатов для Мулен Руж, которые вышли за рамки коммерческого инструмента, став произведениями искусства.
В XX веке авангардисты, особенно представители поп-арта, радикально переосмыслили границу между искусством и коммерцией. Энди Уорхол (Andy Warhol), используя язык массовой культуры, возвел в художественный культ знаковые бренды, такие как Campbell’s Soup и Coca-Cola, превращая потребительские товары в искусство. Его шелкографии фиксировали механистичность потребления и предвосхищали дальнейший симбиоз искусства и маркетинга.
В 1980–1990-е годы бренды осознали, что сотрудничество с художниками усиливает их визуальную идентичность и создает культурную ценность. В этот период появляются первые крупные коллаборации:
в 1986 году Жан-Мишель Баския (Jean-Michel Basquiat) разрабатывает серию работ для Comme des Garçons, а в 2001 году Такаши Мураками (Takashi Murakami) начинает сотрудничество с Louis Vuitton, превращая сумки в арт-объекты. Это стало переходом от меценатства к партнерству, в котором художник не просто декорирует продукт, а создает новый художественный смысл.
В XXI веке коллаборации с художниками становятся частью стратегий крупнейших брендов. Демьен Херст (Damien Hirst), Кусама Яёй (Kusama Yayoi), Олафур Элиассон (Olafur Eliasson), Дэниэл Аршам (Daniel Arsham), Вирджил Абло (Virgil Abloh) — список художников, работающих с модными домами и автомобильными концернами, продолжает расти.
Современные арт-коллаборации уже не компромисс между искусством и коммерцией, а расширение границ художественного высказывания в глобальной визуальной культуре.
Созданные в сотрудничестве с художниками лимитированные коллекции формируют визуальный код эпохи, становясь частью истории моды и современного искусства. В этом контексте особый интерес представляет коллаборация модного дома Dior с японским художником Хадзимэ Сораяма ( 空山 基 , Hajime Sorayama) — знаковой фигурой в искусстве киберпанка и футуризма.
В XXI веке коллаборации с художниками становятся частью стратегий крупнейших брендов. Демьен Херст (Damien Hirst), Кусама Яёй (Kusama Yayoi), Олафур Элиассон (Olafur Eliasson), Дэниэл Аршам (Daniel Arsham), Вирджил Абло (Virgil Abloh) — список художников, работающих с модными домами и автомобильными концернами, продолжает расти.
Современные арт-коллаборации уже не компромисс между искусством и коммерцией, а расширение границ художественного высказывания в глобальной визуальной культуре.
Созданные в сотрудничестве с художниками лимитированные коллекции формируют визуальный код эпохи, становясь частью истории моды и современного искусства. В этом контексте особый интерес представляет коллаборация модного дома Dior с японским художником Хадзимэ Сораяма ( 空山 基 , Hajime Sorayama) — знаковой фигурой в искусстве киберпанка и футуризма.
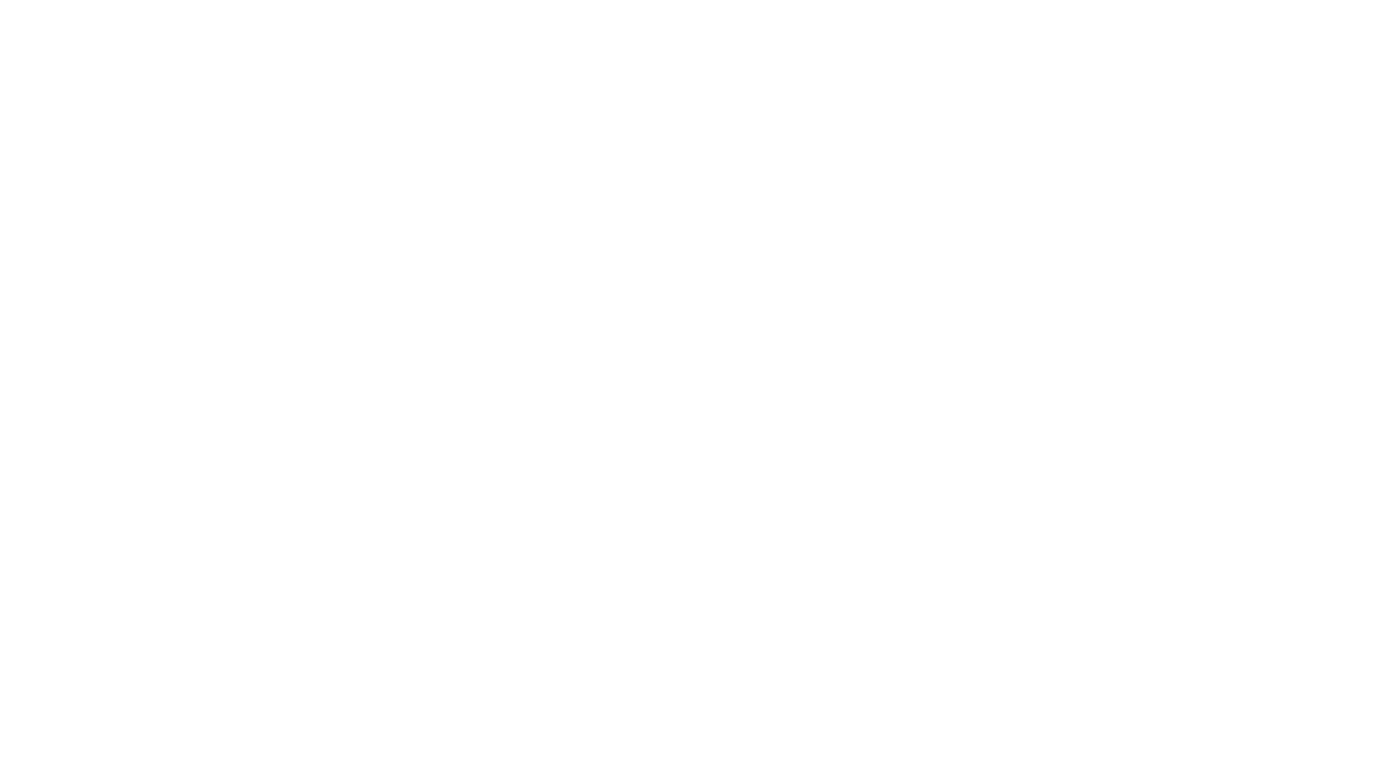
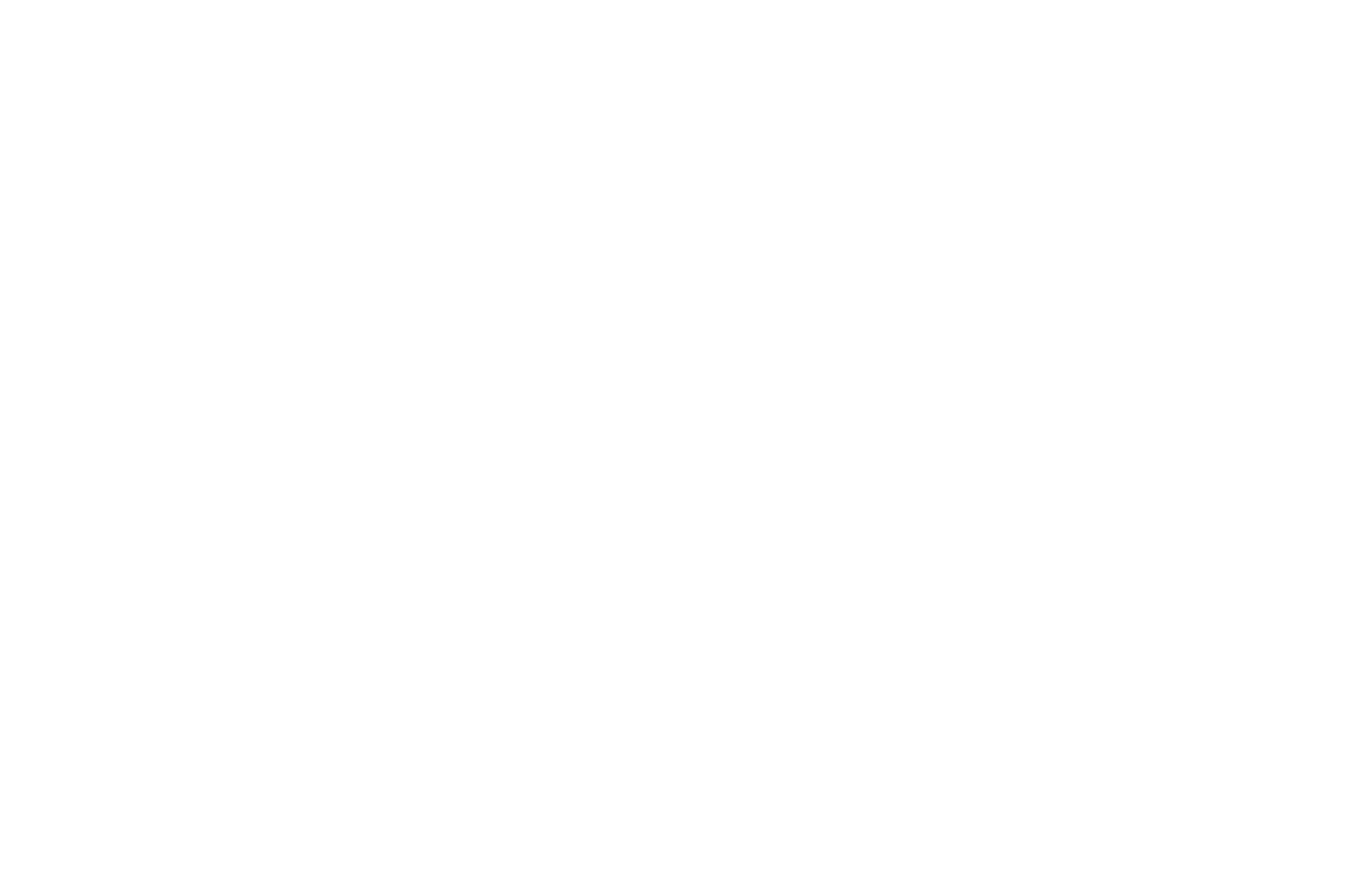
Искусство Сораяма сосредоточено на исследовании границ между человеком и машиной, симбиозе биологического и искусственного. Его работы, часто обращающиеся к образу киборга, переосмысляют взаимодействие тела и технологий, что делает их актуальными в дискурсе об искусственном интеллекте и биотехнологиях.
Включение его визуального языка в мир высокой моды расширяет границы восприятия технологического прогресса в массовой культуре. Знаковая серия «Sexy Robots» стала частью коллекции Dior, продолжая традицию бренда по интеграции авангардных идей в эстетику роскоши. Визуальный код Сораяма, играющий на сочетании чувственности и механистичности, вписался в исторический нарратив дома, где технологии и искусство сосуществуют в динамичном балансе.
Таким образом, сотрудничество Dior с Хадзимэ Сораяма выходит за рамки модной индустрии, становясь частью более широкого культурного диалога об искусстве, технологиях и трансформации образов в XXI веке.
Коллаборация Louis Vuitton и Яёи Кусамы (Kusama Yayoi) в 2024 году стала одним из ключевых событий на пересечении моды и современного искусства, подтвердив значимость художественных коллабораций в стратегии люксовых брендов. Это продолжение их первого сотрудничества в 2012 году, которое положило начало масштабному диалогу между визуальным искусством Кусамы и эстетикой Louis Vuitton.
Включение его визуального языка в мир высокой моды расширяет границы восприятия технологического прогресса в массовой культуре. Знаковая серия «Sexy Robots» стала частью коллекции Dior, продолжая традицию бренда по интеграции авангардных идей в эстетику роскоши. Визуальный код Сораяма, играющий на сочетании чувственности и механистичности, вписался в исторический нарратив дома, где технологии и искусство сосуществуют в динамичном балансе.
Таким образом, сотрудничество Dior с Хадзимэ Сораяма выходит за рамки модной индустрии, становясь частью более широкого культурного диалога об искусстве, технологиях и трансформации образов в XXI веке.
Коллаборация Louis Vuitton и Яёи Кусамы (Kusama Yayoi) в 2024 году стала одним из ключевых событий на пересечении моды и современного искусства, подтвердив значимость художественных коллабораций в стратегии люксовых брендов. Это продолжение их первого сотрудничества в 2012 году, которое положило начало масштабному диалогу между визуальным искусством Кусамы и эстетикой Louis Vuitton.
Искусство Кусамы, основанное на мотивах бесконечности, повторения и оптических эффектов, органично сочетается с философией Louis Vuitton, где мастерство и инновации образуют непрерывный процесс эволюции. Её узнаваемые полихромные точки, «бесконечные сети» и зеркальные инсталляции стали не просто декоративными элементами коллекции, а концептуальным высказыванием о бесконечном обновлении формы и смысла.
Использование характерных визуальных кодов Кусамы в аксессуарах, одежде и пространственных инсталляциях позволило не только расширить художественное влияние бренда, но и переосмыслить его связь с понятием вечности. Коллекция транслирует идею моды как нескончаемого процесса трансформации, создавая диалог между наследием Louis Vuitton и художественным мировоззрением Кусамы, где границы между реальностью и иллюзией становятся подвижными.
Использование характерных визуальных кодов Кусамы в аксессуарах, одежде и пространственных инсталляциях позволило не только расширить художественное влияние бренда, но и переосмыслить его связь с понятием вечности. Коллекция транслирует идею моды как нескончаемого процесса трансформации, создавая диалог между наследием Louis Vuitton и художественным мировоззрением Кусамы, где границы между реальностью и иллюзией становятся подвижными.
Коллаборации брендов с художниками в рамках дизайна отдельных продуктов — лишь поверхностный уровень более сложного и многогранного процесса интеграции искусства в корпоративную среду. Искусство исторически служило пространством смыслообразования, предлагая новые интерпретации привычных вещей, а также ассоциировалось с интеллектуальной элитой. Этот фактор стал ключевым мотиватором для крупных компаний, побуждая их не просто использовать художественные элементы в своей продукции, но и становиться активными участниками арт-сцены.
Сегодня это выражается в создании музейных фондов, культурных институтов и арт-резиденций. Так, Fondation Louis Vuitton в Париже превратился в один из ведущих центров современного искусства, а Fondazione Prada в Милане реализует масштабные выставочные и исследовательские проекты. Cartier Foundation for Contemporary Art на протяжении нескольких десятилетий поддерживает художников, инициируя значимые кураторские программы.
Взаимодействие брендов с искусством выходит за рамки маркетинговых стратегий, превращаясь в инструмент культурной политики и формирования нового художественного ландшафта. Эти инициативы не только влияют на развитие современного искусства, но и становятся частью культурного наследия, переопределяя границы взаимодействия между бизнесом и художественной сферой.
Значимую роль в актуальном художественном процессе играют инициативы, направленные на демократизацию искусства и его интеграцию в общественное пространство. Так, Swatch Art Peace Hotel в Шанхае предоставляет художникам со всего мира возможность участия в арт-резиденциях, способствуя международному культурному диалогу, а программа BMW Art Journey поддерживает художественные исследования и мобильные выставочные проекты, расширяя границы художественного опыта.
Важным инструментом продвижения экспериментального искусства становятся фестивальные платформы: Red Bull Arts развивает экосистему актуального искусства, предоставляя пространства для выставок, перформативных практик и междисциплинарных проектов.
Современные художественные коллаборации выходят за пределы традиционных медиа, осваивая цифровые среды и гибридные форматы. NFT, phygital-объекты и алгоритмическое искусство открывают новые возможности для взаимодействия между художниками и брендами.
Сегодня это выражается в создании музейных фондов, культурных институтов и арт-резиденций. Так, Fondation Louis Vuitton в Париже превратился в один из ведущих центров современного искусства, а Fondazione Prada в Милане реализует масштабные выставочные и исследовательские проекты. Cartier Foundation for Contemporary Art на протяжении нескольких десятилетий поддерживает художников, инициируя значимые кураторские программы.
Взаимодействие брендов с искусством выходит за рамки маркетинговых стратегий, превращаясь в инструмент культурной политики и формирования нового художественного ландшафта. Эти инициативы не только влияют на развитие современного искусства, но и становятся частью культурного наследия, переопределяя границы взаимодействия между бизнесом и художественной сферой.
Значимую роль в актуальном художественном процессе играют инициативы, направленные на демократизацию искусства и его интеграцию в общественное пространство. Так, Swatch Art Peace Hotel в Шанхае предоставляет художникам со всего мира возможность участия в арт-резиденциях, способствуя международному культурному диалогу, а программа BMW Art Journey поддерживает художественные исследования и мобильные выставочные проекты, расширяя границы художественного опыта.
Важным инструментом продвижения экспериментального искусства становятся фестивальные платформы: Red Bull Arts развивает экосистему актуального искусства, предоставляя пространства для выставок, перформативных практик и междисциплинарных проектов.
Современные художественные коллаборации выходят за пределы традиционных медиа, осваивая цифровые среды и гибридные форматы. NFT, phygital-объекты и алгоритмическое искусство открывают новые возможности для взаимодействия между художниками и брендами.
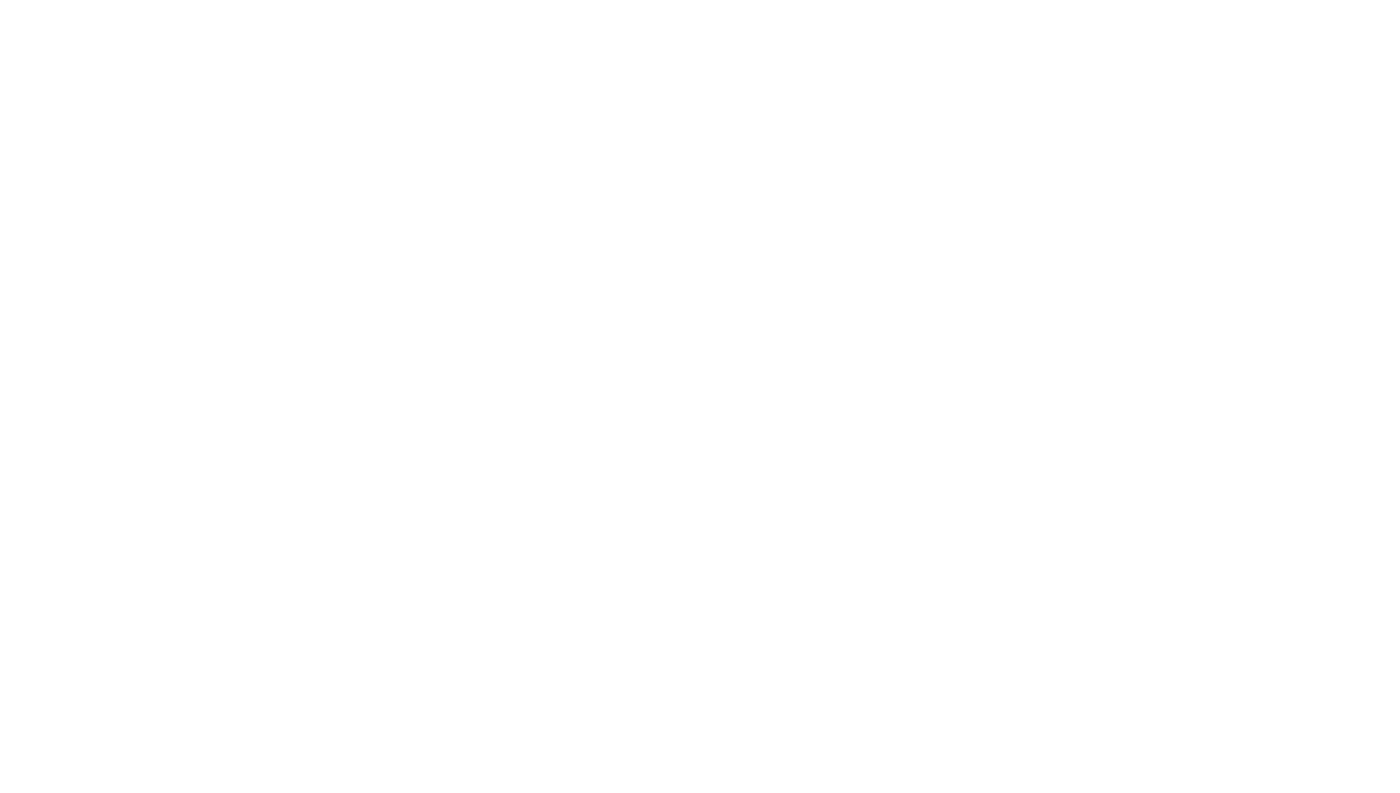
Например, в 2021 году Рефик Анадол (Refik Anadol) создал цифровую инсталляцию для часового бренда Hublot, трансформируя сложные алгоритмические структуры в динамические визуальные формы, что стало примером синтеза данных, эстетики и технологического искусства.
Сегодня границы между искусством и коммерцией размываются, превращая художника не просто в создателя визуального языка, но в соавтора смыслов и стратегий бренда.
Взаимодействие с корпорациями становится не только инструментом культурного маркетинга, но и способом генерации новых художественных смыслов. В этом процессе рождается искусство XXI века — гибридное, многослойное и способное к самопрезентации в самых неожиданных контекстах.
Материал подготовили:
Арт-лаборатория «Контекст»
Лилия Ковалевская и Карина Евстропова
Сегодня границы между искусством и коммерцией размываются, превращая художника не просто в создателя визуального языка, но в соавтора смыслов и стратегий бренда.
Взаимодействие с корпорациями становится не только инструментом культурного маркетинга, но и способом генерации новых художественных смыслов. В этом процессе рождается искусство XXI века — гибридное, многослойное и способное к самопрезентации в самых неожиданных контекстах.
Материал подготовили:
Арт-лаборатория «Контекст»
Лилия Ковалевская и Карина Евстропова
начало статьи
КАК РАБОТАЕТ РЕСТАВРАТОР

Главная задача современной научной реставрации — приостановить разрушения, изучить и сохранить памятник, максимально продлить его жизнь и обеспечить возможность дальнейших исследований, искусствоведческих и исторических. Эти принципы были заложены еще в XIX веке, когда возникла идея о необходимости сохранения и изучения древности. Началом этого процесса можно считать поступок скульптора Кановы, который отказался восполнять утраченные фрагменты скульптуры Парфенона.
Бывшая сначала частью археологии, реставрация постепенно выделилась в отдельную отрасль. Еще в XIX веке четкого разделения между реставрацией, поновлением, ремонтом и восстановлением не было. Сейчас поновление и ремонт неприемлемы в работе с памятниками, хотя коммерческая реставрация часто использует именно эти способы, чтобы улучшить вид памятника перед перепродажей или экспонированием в частной коллекции. Разницу между реставрацией и восстановлением хорошо иллюстрирует храм Христа Спасителя: хотя взорванный храм и восстанавливали с учетом прежних форм, на самом деле он выстроен заново.
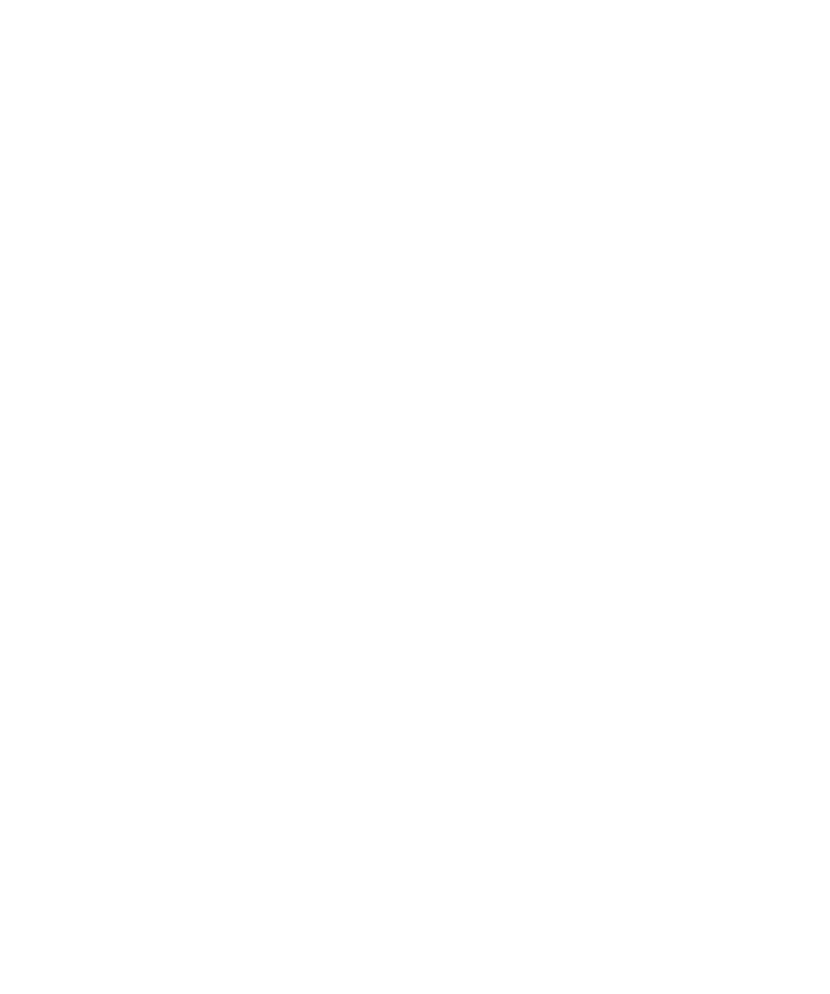
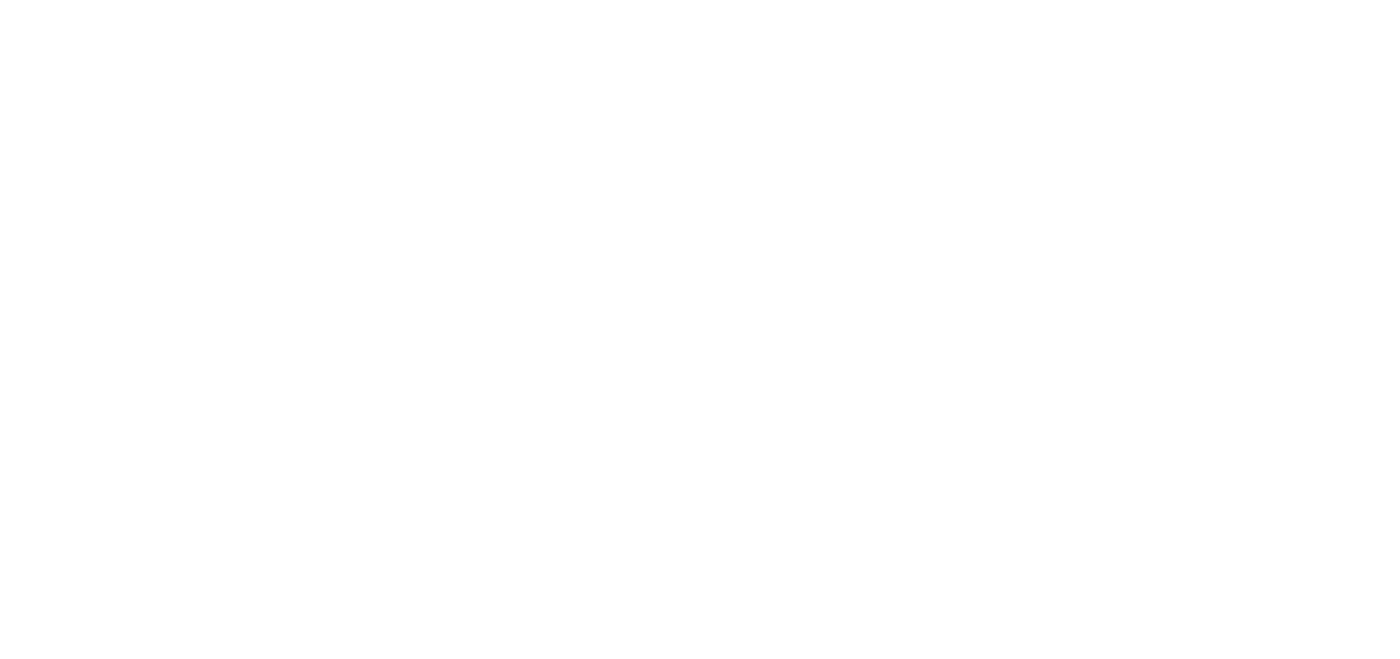
Почему реставратор почти как врач
Реставраторы — как врачи. Они тоже носят белые халаты и используют медицинские инструменты — скальпели, шприцы, компрессы, ватные тампоны. И главный принцип тот же: не навреди. Памятник — это хрупкий организм с многовековыми историческими наслоениями, поэтому прежде, чем вмешиваться в его структуру, нужно убедиться в необходимости такого вмешательства. Для начала нужно поставить правильный диагноз, то есть понять причины разрушений.
Поэтому так важно провести обследование и составить «историю болезни» — описать нынешнее состояние памятника, сделать лабораторные и архивные исследования. По результатам исследований проводится своего рода консилиум врачей — реставрационный совет, в котором участвуют историки, искусствоведы, музейные хранители, а также реставраторы разных профилей. Только когда программа работ утверждена советом, можно приступать к реставрации.
Точнее определить состояние памятника позволяют физико-химические исследования. Рентгенограмма показывает внутреннее строение произведения, пустоты, трещины, скобы; съемка в ультрафиолетовых лучах нужна для оценки состояния поверхности — на ней видны записи, тонировки, лаки; съемка в инфракрасных лучах позволяет увидеть различные слои живописи и подготовительного рисунка.
Реставраторы — как врачи. Они тоже носят белые халаты и используют медицинские инструменты — скальпели, шприцы, компрессы, ватные тампоны. И главный принцип тот же: не навреди. Памятник — это хрупкий организм с многовековыми историческими наслоениями, поэтому прежде, чем вмешиваться в его структуру, нужно убедиться в необходимости такого вмешательства. Для начала нужно поставить правильный диагноз, то есть понять причины разрушений.
Поэтому так важно провести обследование и составить «историю болезни» — описать нынешнее состояние памятника, сделать лабораторные и архивные исследования. По результатам исследований проводится своего рода консилиум врачей — реставрационный совет, в котором участвуют историки, искусствоведы, музейные хранители, а также реставраторы разных профилей. Только когда программа работ утверждена советом, можно приступать к реставрации.
Точнее определить состояние памятника позволяют физико-химические исследования. Рентгенограмма показывает внутреннее строение произведения, пустоты, трещины, скобы; съемка в ультрафиолетовых лучах нужна для оценки состояния поверхности — на ней видны записи, тонировки, лаки; съемка в инфракрасных лучах позволяет увидеть различные слои живописи и подготовительного рисунка.
Зачем реставратору дневник
В цикле реставрационных работ несколько этапов: сперва идет расчистка, раскрытие и укрепление, затем с помощью тонировок и восстановления утрат произведение приводят в экспозиционный вид. В течение всего цикла реставратор записывает свои действия в дневник, по которому потом составляют паспорт произведения, или отчет. Вообще, различная документация — неотъемлемая часть реставрации, так как реставратор не свободный художник, а исследователь.
Научная реставрация видит в памятнике не только произведение искусства, но и исторический документ. Поэтому, даже если первоначальный авторский слой раскрывается полностью без сохранения позднейших записей, важно зафиксировать все этапы существования памятника. Это делается с помощью описания, фотосъемки и схем-картограмм.
Если вы видите на иконе или картине небольшие квадратики, отличающиеся по фактуре и цвету от авторской живописи, не думайте, что реставраторы забыли расчистить кусочек: это контрольный участок, или так называемая контролька.
На нем оставляют по полоске каждого позднего слоя, чтобы сохранить свидетельства разных стадий существования произведения. Иногда по окончании работ контрольки удаляют — ведь их можно просто сфотографировать.
В цикле реставрационных работ несколько этапов: сперва идет расчистка, раскрытие и укрепление, затем с помощью тонировок и восстановления утрат произведение приводят в экспозиционный вид. В течение всего цикла реставратор записывает свои действия в дневник, по которому потом составляют паспорт произведения, или отчет. Вообще, различная документация — неотъемлемая часть реставрации, так как реставратор не свободный художник, а исследователь.
Научная реставрация видит в памятнике не только произведение искусства, но и исторический документ. Поэтому, даже если первоначальный авторский слой раскрывается полностью без сохранения позднейших записей, важно зафиксировать все этапы существования памятника. Это делается с помощью описания, фотосъемки и схем-картограмм.
Если вы видите на иконе или картине небольшие квадратики, отличающиеся по фактуре и цвету от авторской живописи, не думайте, что реставраторы забыли расчистить кусочек: это контрольный участок, или так называемая контролька.
На нем оставляют по полоске каждого позднего слоя, чтобы сохранить свидетельства разных стадий существования произведения. Иногда по окончании работ контрольки удаляют — ведь их можно просто сфотографировать.
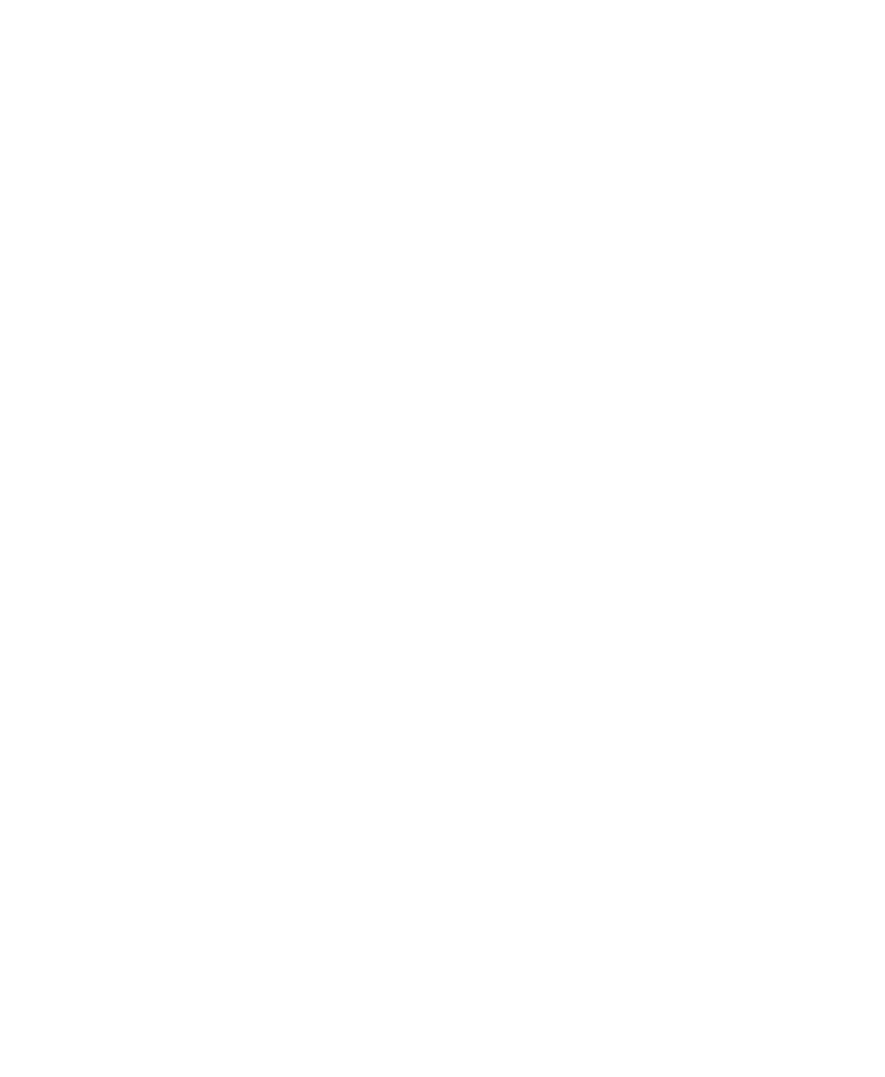
Фреска Спасской церкви Евфросиниевского монастыря
в Полоцке с контрольками
в Полоцке с контрольками

Раскрытие живописи из-под высолов. Церковь Святого Георгия в Рашкиде, Ливан
Как раскрыть «автора»
В памятнике выделяют авторский слой — реставраторы называют его «автором» — и все последующие наслоения (поновления, записи, загрязнения). На фресках появляется копоть от свечей, высолы ; на иконах темнеет олифа, на картинах — лак; извлеченный из захоронений археологический текстиль и вовсе покрыт землей; живопись бывает поражена грибком. Но дело не только в поверхностных загрязнениях. Одновременно с появлением иконописи на Руси возникла практика поновления живописи.
В памятнике выделяют авторский слой — реставраторы называют его «автором» — и все последующие наслоения (поновления, записи, загрязнения). На фресках появляется копоть от свечей, высолы ; на иконах темнеет олифа, на картинах — лак; извлеченный из захоронений археологический текстиль и вовсе покрыт землей; живопись бывает поражена грибком. Но дело не только в поверхностных загрязнениях. Одновременно с появлением иконописи на Руси возникла практика поновления живописи.
Чтобы обновить икону, ее как бы писали заново по древнему слою, иногда соблюдая иконографию (то есть сохраняя композицию и атрибуты персонажей), но меняя стиль в соответствии с модой или представлениями о древности. Часто поверх старого образа и вовсе заново писали другого святого или другой сюжет — такая практика была вполне нормальна и воспринималась как обновление святыни.
Кроме того, в реставрациях часто использовались материалы, вредящие памятнику: так, сто лет назад монументальную живопись могли покрыть воском в качестве защитного слоя, не зная, что воск создает условия для задержки влаги. Одна из основных задач реставратора — раскрыть авторскую живопись, то есть удалить позднейшие наслоения.
Кроме того, в реставрациях часто использовались материалы, вредящие памятнику: так, сто лет назад монументальную живопись могли покрыть воском в качестве защитного слоя, не зная, что воск создает условия для задержки влаги. Одна из основных задач реставратора — раскрыть авторскую живопись, то есть удалить позднейшие наслоения.
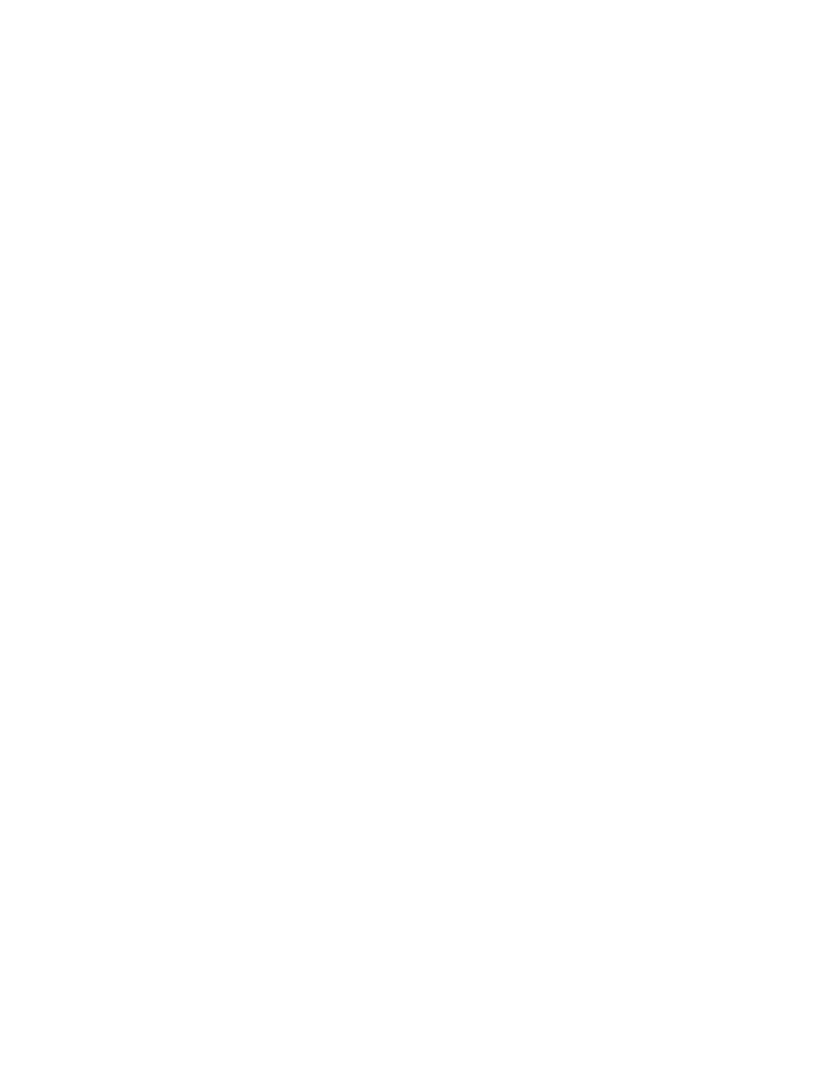
Раскрытие живописи из-под масляной покраски с помощью компрессов в Спасской церкви Евфросиниевского монастыря, Полоцк
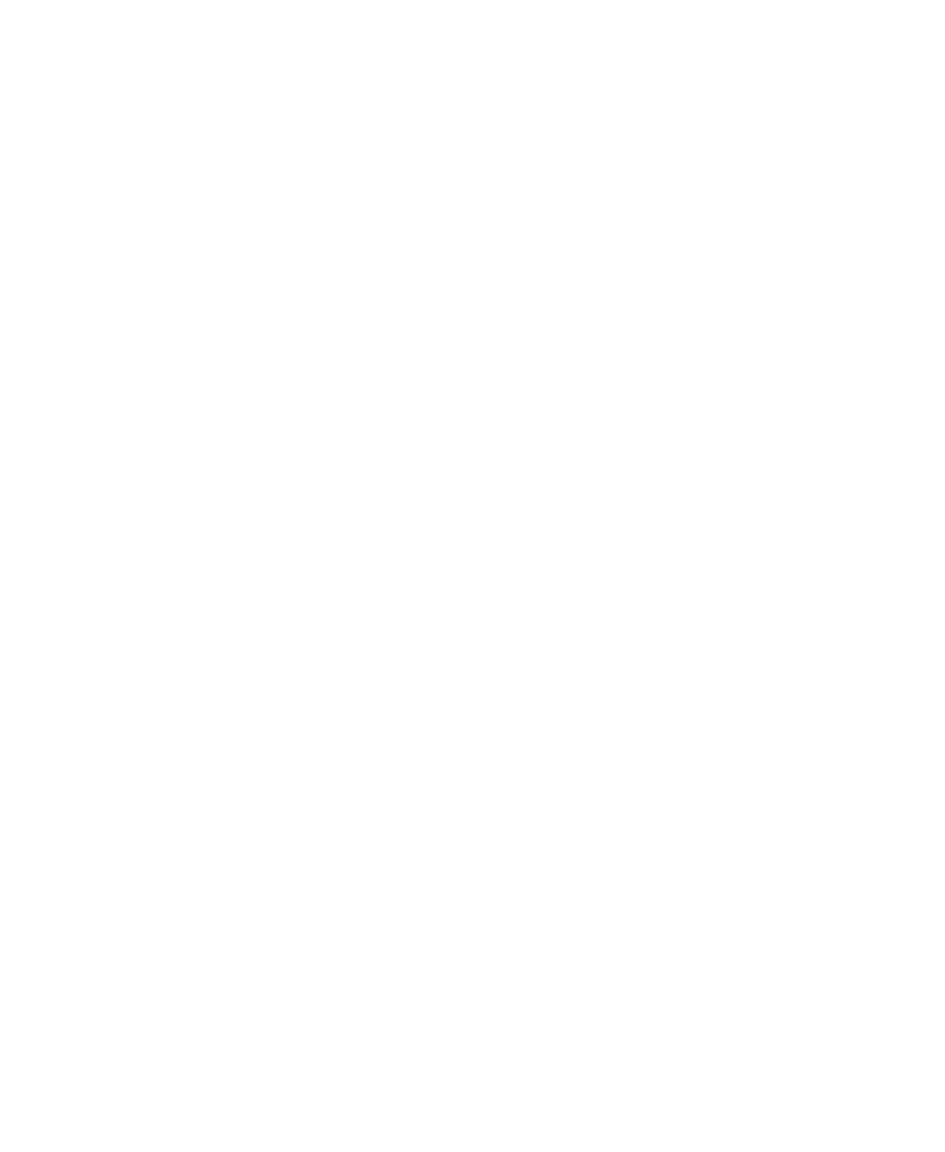
Что удалять, а что нет
Но и поздняя запись представляет собой историческую ценность. Удалять ее или нет — зависит от степени сохранности эстетических качеств «автора» и поздних записей. В идеале лучше сохранить все слои, что не всегда возможно. Впрочем, иногда живопись можно расслоить и перенести на новую основу. В Спасской церкви Евфросиниевского монастыря в белорусском Полоцке почти полностью сохранившиеся росписи XII века были покрыты несколькими слоями записей, в том числе масляной живописью XIX века. Но этим записям повезло: реставраторы смогли их снять, перенеся целые композиции площадью в несколько квадратных метров на новую основу. Теперь в храме можно увидеть древние фрески, а в музее неподалеку — живопись XIX века, снятую со стен.
Но и поздняя запись представляет собой историческую ценность. Удалять ее или нет — зависит от степени сохранности эстетических качеств «автора» и поздних записей. В идеале лучше сохранить все слои, что не всегда возможно. Впрочем, иногда живопись можно расслоить и перенести на новую основу. В Спасской церкви Евфросиниевского монастыря в белорусском Полоцке почти полностью сохранившиеся росписи XII века были покрыты несколькими слоями записей, в том числе масляной живописью XIX века. Но этим записям повезло: реставраторы смогли их снять, перенеся целые композиции площадью в несколько квадратных метров на новую основу. Теперь в храме можно увидеть древние фрески, а в музее неподалеку — живопись XIX века, снятую со стен.
Как восстановить то, что утрачено
Восстановить утраченные элементы не всегда возможно, однако в некоторых случаях, например при реставрации керамики, детали удается восполнить по прямым аналогиям.
Реставрация использует метод симметрии, например если утрачена одна из двух ручек вазы, или инерции — когда фрагмент можно восполнить, продлевая его контур. Бывают и более сложные способы восполнения. Керамическая статуэтка работы Елены Гуревич «Дон Кихот и Санчо Панса» из музея «Царицыно» поступила в реставрационный центр имени И. Э. Грабаря разбитая на части, без копья и хвоста лошади. Прямую аналогию потерянным фрагментам найти не удалось: статуэтка есть во многих музеях, но у всех экземпляров также отбит хвост. Через музей Конаковского фаянсового завода удалось найти мастера, который работал с формами Гуревич, и сделать форму для восполнения хвоста.
Восстановить утраченные элементы не всегда возможно, однако в некоторых случаях, например при реставрации керамики, детали удается восполнить по прямым аналогиям.
Реставрация использует метод симметрии, например если утрачена одна из двух ручек вазы, или инерции — когда фрагмент можно восполнить, продлевая его контур. Бывают и более сложные способы восполнения. Керамическая статуэтка работы Елены Гуревич «Дон Кихот и Санчо Панса» из музея «Царицыно» поступила в реставрационный центр имени И. Э. Грабаря разбитая на части, без копья и хвоста лошади. Прямую аналогию потерянным фрагментам найти не удалось: статуэтка есть во многих музеях, но у всех экземпляров также отбит хвост. Через музей Конаковского фаянсового завода удалось найти мастера, который работал с формами Гуревич, и сделать форму для восполнения хвоста.
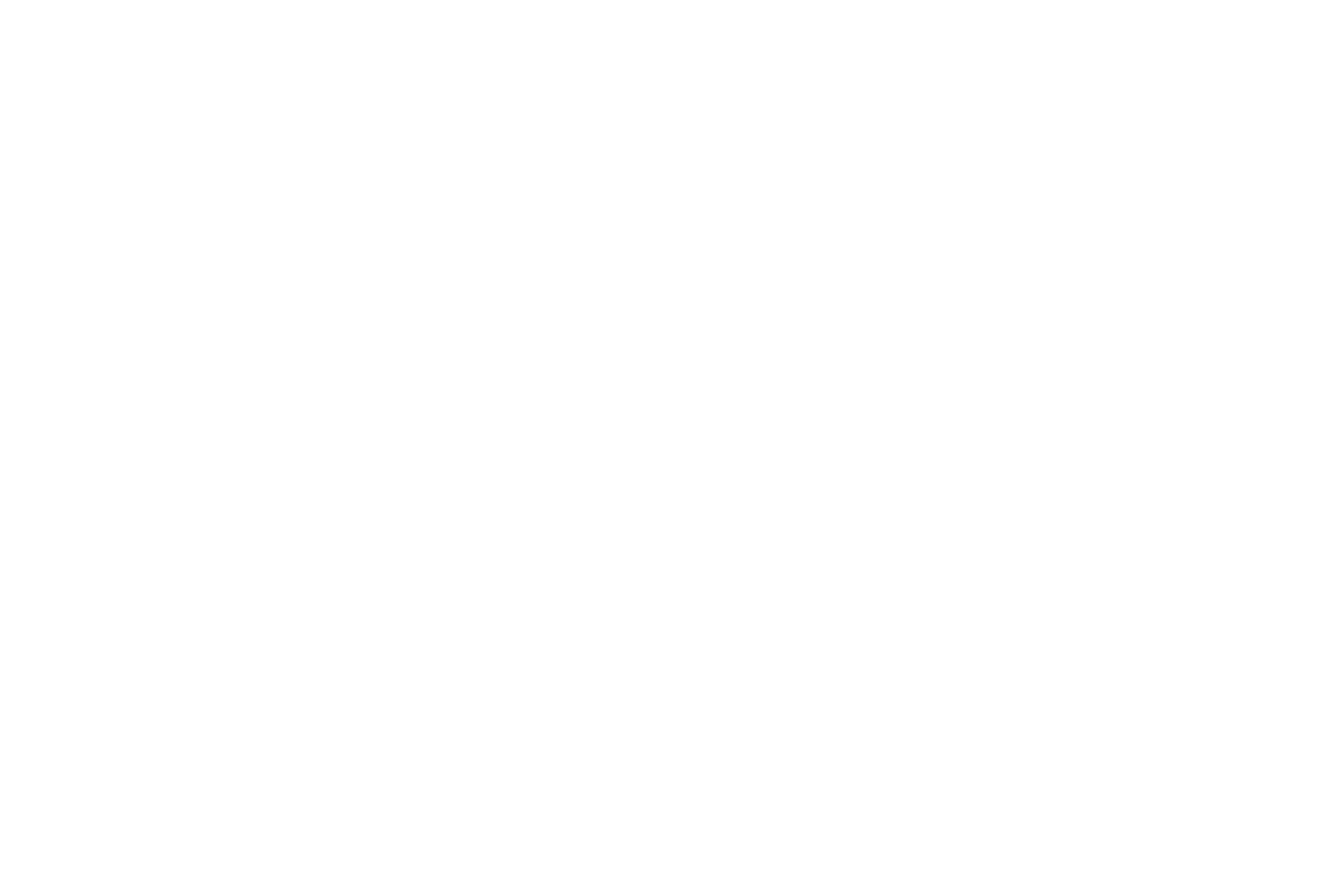
Как хранить памятник
Завершив все работы, реставратор продолжает наблюдать памятник, давать рекомендации по хранению, предотвращать любые недопустимые вмешательства, следить за соблюдением температурно-влажностного режима (это один из главных способов избежать новых природных повреждений).
После сдачи работ с реставратора не снимается ответственность за памятник — это по-прежнему пациент, чья сохранность зависит от взаимодействия реставратора со всеми, кто причастен к жизни произведения.
Завершив все работы, реставратор продолжает наблюдать памятник, давать рекомендации по хранению, предотвращать любые недопустимые вмешательства, следить за соблюдением температурно-влажностного режима (это один из главных способов избежать новых природных повреждений).
После сдачи работ с реставратора не снимается ответственность за памятник — это по-прежнему пациент, чья сохранность зависит от взаимодействия реставратора со всеми, кто причастен к жизни произведения.
